Slavistica Vilnensis ISSN 2351-6895 eISSN 2424-6115
2024, vol. 69(2), pp. 58–73 DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2024.69(2).4
Латинизмы в текстах литовских татар (на примере тефсира из Олиты 1723 г.)
Алла Кожинова / Alla Kozhinowa
Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska / Institute of Polish Language PAS, Poland
Email: kozhinster@gmail.com
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5498-7037
Аннотация. Статья посвящена анализу латинизмов в тефсире из Олиты – польском переводе Корана, выполненном татарами Великого княжества Литовского старейшем переводе священной книги ислама на славянские языки. Делается вывод о том, что наличие латинизмов в тексте перевода свидетельствует о принадлежности переводчиков к культуре польской шляхты, а их количество на единицу текста (25 словоупотреблений на 6000 словоупотреблений текста) подтверждает датировку несохранившегося протографа тефсира концом XVI в. Тот факт, что формальные признаки некоторых латинизмов указывают на их проникновение в текст перевода через восточнославянские языки, подтверждает факт его создания на территории, непосредственно граничащей с территорией их распространения.
Ключевые слова: татары Великого княжества Литовского, польский перевод Корана, тефсир, латинизмы
Latinisms in the Texts of Lithuanian Tatars (Using the Example of Tefsir from Olita 1723)
Abstract. The article is devoted to the analysis of Latinisms in the tefsir from Olita, the Polish translation of the Koran, which, being made by the Tatars of the Grand Duchy of Lithuania, is the oldest translation of the holy book of Islam into the Slavic languages. Both direct borrowings and indirect ones, when there was another intermediary language between the donor language (Latin) and the recipient language (Polish), are considered. It was noted that the text contains the largest number of nouns of Latin origin, followed by verbs, and adjectives are few in number. The article concludes that the presence of Latinisms in the text of the translation indicates that the translators belonged to the culture of the Polish gentry, and number of Latinisms per unit of text (25 word usages out of 6000 word usages of the text, what, according to researchers, was characteristic of Polish literature in the 16th century) confirms the dating of the lost prototype of the tefsir to the end of the 16th century. The fact that the formal signs of some Latinisms indicate their penetration into the text of the translation through the East Slavic languages confirms the fact of its creation in the territory directly bordering on the territory of distribution of these languages.
Keywords: Tatars of the Grand Duchy of Lithuania, Polish translation of the Koran, tefsir, Latinisms
Lotynizmai Lietuvos totorių tekstuose (Tefsyro iš Olitos (1723) atvejis)
Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami lotynizmai, aptikti Tefsyre iš Olitos (Alytaus), Korano vertime į lenkų kalbą, kuris yra seniausias islamo šventosios knygos vertimas į slavų kalbas, atliktas LDK totorių. Tyrinėjimo metu parodyta, kad lotynizmų buvimas Tefsyre yra vertėjų įtraukimo į lenkų bajorų kultūros sritį įrodymas. Lotynizmų skaičius tekste patvirtina neišsaugoto Tefsyro protografo datavimą – iki XVI amžiaus pabaigos. Tai, kad formalūs kai kurių lotynizmų bruožai rodo jų įsiskverbimą į vertimo tekstą per Rytų slavų kalbas, patvirtina jo sukūrimo faktą teritorijoje, kuri tiesiogiai ribojasi su šių kalbų paplitimo teritorija.
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės totoriai, Korano vertimas į lenkų kalbą, Tefsyras, lotynizmai
Received: 15.09.2024. Accepted: 15.11.2024.
Copyright © 2024 Алла Кожинова / Alla Kozhinowa. Published by Vilnius University Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
1. Введение. Характеристика исследуемого материала
Известно, что создаваемые на землях Великого княжества Литовского арабографические книги литовских татар на славянских языках ведут свое начало от XVI в., а старейшие известные рукописи датируются XVII в. [Łapicz 1986, 62–64]. Не является исключением и тефсир из Олиты, датируемый 1723 г., содержащий перевод Корана на польский язык, – старейшую славянскую версию [Kulwicka-Kamińska, Łapicz (red.) 2022], оригинал которой, предположительно, был создан уже в конце XVI в. [Ibid., 44].
Вторая половина XVI в. – период Возрождения на землях Великого княжества Литовского и Короны польской – ознаменовался, с одной стороны, расцветом литературного творчества, а, с другой, серьезными изменениями в структуре языка, обслуживающего это творчество, особенно в области лексики.
Литература татар не оставалась в стороне от этих процессов:
…возникновение татарской литературы не было результатом только лишь языковой ассимиляции, но на нее оказывало влияние культурное и религиозное оживление, связанное с Возрождением и Реформацией в Литве и Короне во второй половине XVI в. Момент начала создания собственной письменности польско-литовских татар – конец XVI в. – по времени совпадает с писательской деятельностью на национальных языках, вызванной реформаторско-возрожденческими идеями, по отношению к которым татары… не были пассивны) (перевод мой – А.К.) [Drozd 2017, 24–25].
С одной стороны, можно говорить о светском влиянии, так как татары, принадлежа к шляхте, усваивали ее социолект и традиции [Drozd, z. e]. С другой стороны, на татарскую литературу влияла переводная религиозная литература, через которую в тексты проникали и многочисленные латинизмы [Kulwicka-Kamińska 2020, 116]. Именно этот слой заимствованной лексики в тефсире из Олиты является объектом исследования в данной статье.
2. Латинские заимствования в истории польского языка
Существует большое количество исследований заимствованной лексики (см., напр., Bańko i in. 2016; Nowowiejski 2010; Piotrowski 2008), однако хотелось бы обратить внимание на одну из проблем в этой области – на необходимость отдельного рассмотрения заимствований в языке и заимствований в тексте. На это обращал внимание еще З. Клеменсевич, в своей Истории польского языка (Historia języka polskiego) подсчитав латинизмы «…у нескольких авторов в случайно взятом прозаическом тексте, насчитывающем около 6000 слов. У Кохановского их 14; у Ожеховского 6; у Жулкевского (1612) 26; у Брожека (1625) 78; у Потоцкого (1670) 83; у Паска (1691 1695) 128; у Конарского (1760–1763) 181» (перевод мой – А.К.) [Klemensiewicz 1976, 341].
Существуют различные подходы к определению польских латинизмов в зависимости от того, была ли лексема непосредственно заимствована из латыни или образована от латинского корня, попала она в польский язык из языка-донора или благодаря языку-посреднику. Так, Б. Вальчак рассматривал в качестве латинизмов лишь слова, непосредственно попавшие в польский язык из латыни [Walczak 1995, 100–101]. Однако такой подход требует дополнительной работы с материалом: несмотря на общую разработанность проблемы латинизмов в польском языкознании, некоторые вопросы еще остаются неясными [см., напр., German 2022].
В тексте тефсира И. Кульвицкой-Каминьской обнаружено 73 заимствования из латинского и греческого языков [Kulwicka-Kamińska 2024]. Эта цифра вызывает вопрос: много это или мало для книжного польского языка того периода? В связи с этим нами была предпринята попытка произвести подсчет латинизмов по методу З. Клеменсевича. Без определения, была ли лексема заимствована из латинского языка непосредственно или опосредованно, образована ли уже на польской почве с участием соответствующих формантов, в данной статье в качестве латинизма принимается любая лексическая единица, восходящая к латинскому этимону, иначе говоря, учитываются как непосредственные, так и опосредованные заимствования, когда между языком-донором (латинским) и языком-реципиентом (польским) находился какой-либо язык-посредник (см. [Dubisz 2002, 217 и далее]).
Для точного подсчета был выбран фрагмент суры 2, насчитывающий около 6000 слов1. В этом фрагменте выявлено 19 лексем латинского происхождения (25 словоупотреблений), что совпадает с количеством, обнаруженным З. Клеменсевичем у авторов XVI в.
3. Латинизмы в тексте тефсира из Олиты
3.1. Общая характеристика латинизмов
В текстах литовских татар латинизмы можно условно разделить на две группы. Во-первых, это латинизмы, не имеющие польских аналогов, когда переводчик не мог выбирать между своей и заимствованной лексемой. Следует учитывать, что тефсир представлял собой не точный перевод коранического текста, а вольный, снабженный необходимыми толкованиями, поэтому создатели текста обладали достаточной свободой и могли просто не употреблять то или иное слово. Это сближает данную группу заимствований с латинизмами „по желанию”, которые, имея польские соответствия, появлялись в тексте в результате интенции переводчика использовать социолект своей общественной группы.
3.2. Частеречная отнесенность латинизмов
Латинизмы в польском языке были приспособлены к его грамматической системе, при этом их словообразовательная и морфологическая структура подверглась изменениям. Как известно, адаптация в славянских языках различных частей речи происходит по-разному. Если для заимствованного существительного может быть достаточным грамматическое оформление по законам заимствующего языка [Крысин 1968, 35–46], то для глагола необходимо более глубокое грамматическое освоение. Одним из его этапов является усложнение словообразовательной структуры, поскольку глагол – это такая часть речи, которая «не может существовать без формальных показателей своей глагольности» [Земская 2003, 101].
Возможно, в силу более легкой адаптации к условиям принимающего языка, необходимости называть новые явления и из-за превалирования в языке, в анализируемом тексте в наибольшем количестве представлены существительные: animusz, anioł, bestyja, ceremonia, cyrkiel, dekret, deklaracyja, figiel, figura, filar, fundacja, fundament, fundator, fundusz, funt,inkaust, instygator, kalam, konwersacyja, kryminał, medyjator, melon, monarcha, mur, mularz, nacyja, ofiara, ofiarownik, paragraf, perfekcyja, persona, personić, pielgrzym, plenimpotent, poganin, pretendować, prezbiter, processyja, prowizor, przywilej, referendarstwo, respekt, sukkolektor, testament, termin, tytuł, trybut, upersonić, wiktoryja, zamurowanie.
В меньшем количестве представлены оформленные по регулярной модели глагольные образования: dekretować, fundować, ofiarować, personić, pretendować, publikować. Если в их отношении встает вопрос: считать такие формы заимствованиями2 или же дериватами, возникшими уже в польском языке, то, безусловно, к производным относятся формы, при образовании которых деривационная активность глагольного слова развивается в сторону образования видовых пар (naterminować, upersonić, utestamentować), а также причастные формы (deklerowanij).
С этой точки зрения интересной представляется форма dyrektowany3 ‘направленный’ (bendō rōzūmec ḱafire že ōnī sōŋ na dōbre drōge direktōwani4, K 388b). Эту причастную форму, как и возможный глагол, от которого она образована (*dyrektować), не фиксирует ни один исторический словарь как польского, так и восточнославянских языков, она не представлена также в современных словарях. Словарь средневековой латыни [SŁŚ 3 / 4 1971, 335] равно не представляет ни одного глагольного деривата от корня direct.
Прилагательные в тексте достаточно редки: можно отметить, напр., anielskie от anioł; fałszywy (в тексте присутствует и пришедшее через немецкий язык существительное fałsz, от которого оно образовано; ср. также bestyjski от bestyja – это прилагательное не фиксируется в тексте, хотя исторические словари приводят большое количество атрибутивных дериватов от слова bestya5, представленых, однако, лишь в польских диалектах [Karłowicz 1 1900, 67]). С другой стороны, в тефсире встречается дериват muzycki (K.439b), хотя существительное muzyka, пришедшее в европейские языки из греческого через латынь, в нем отсутствует; прилагательное встречается в польских текстах, начиная с XVI в. [SP XIV w. 14, 1984, 224].
3.3. Объединения латинизмов на основе общности этимона
Некоторые латинские заимствования можно объединить в корневые гнезда, напр.: ofiara – ofiarować, ofiarownik. Лексемы такого гнезда могут быть сосредоточены на одном участке текста, выполняя важную роль при его организации, как, например, дериваты глагола fundować в 109–110 аятах суры 9, где сравнивается основание мечети верными и неверными: bō ten cō zalōžōnij fūndūš jegō na bojaźni bōžej bōjōnci śe ōd boga i dla wʒenčnōści jegō lepšij bō ten jakō ma bic lepšij cō zalōžōnij fūndūš jegō na bregū ōdxlanī peḱelnej ūpadli te fūndatōrōwe is tim mes̀ǯidem w ōgen peḱelnij bō pan bōg ne prōwaʒi na dobre lūʒī newernix zalimōw ... ne prijenta fūndacija īx ktōra fūndawana w wontpliwości w sercax īx...6 (K.163a). В данном случае латинизмы могли бы быть заменены производными глагола budować, однако в предыдущем аяте той же суры переводчик удачно противопоставляет эти два глагола, говоря о запрете совершать намаз в мечети, которая построена для нанесения вреда мусульманам: i ne klanej śe w tim cō munafiḱi būdowali mes̀ǯid wečne ale mes̀ǯid ktōrij fundōwanij jest na bōjaz̀ni bōžej7 (K.163a). Cлово fundusz, как видно, модифицирует здесь свою семантику, приобретая в этом контексте значение ‘основа, фундамент’, которое не приводит для него исторический словарь польского языка [SP XIV w. 7, 1973, 153].
В тексте обнаружено два производных существительного persona, не отмечаемые лексикографическими источниками: personić и upersonić. Их возможное создание для этого текста представляется удачным − в обоих случаях (в суре 3 и в суре 7) речь идет о формировании человеческого облика, ср. ōn jest ten ktōrī persōni was w žiwotax macerinsḱix8 (K.44b) и i ḱedi stwōrilem was tō jest adama a pōtim ūpersōnim was9 (K.123b). Эти глаголы лучше передают содержание текста, чем их возможные синонимы kształować / wykształtować и formować / uformować, во-первых, достаточно редкие для XVI в., а, во-вторых, содержащие в своей семантике идею придания формы неодушевленным предметам, тогда как дериваты слова persona благодаря своей внутренней форме эксплицируют создание человеческой личности.
Не отмечается словарями и дериват utestamentować, образованный от лексемы testament, отмеченной уже в текстах старопольского периода. Словарь польского языка XVII–XVIII в. приводит образованный от существительного figiel дериват figlować, для которого на основании контекстов можно предположить значение ‘играть в азартные игры, дурачиться’ [ESJP XVII i XVIII ww]. В тексте тефсира, однако, встречаем отглагольное существительное figlowanie, имеющее несколько иное значение: оно представлено в аяте 53 суры 18 (i ōbačō grešnici peklō i dōmišlon śe že tō jix meškanjō benʒe i ne najdō ź negō figlōwana (K. 239a), где используется для обозначения преступного способа избежать наказания10.
3.4. Время появления латинизмов тефсира в польском языке и уместность их использования в тексте
3.4.1. Время появления латинизмов по данным исторических словарей
К старопольскому периоду относятся следующие лексемы: animusz, anioł, bestyja, cyrkiel, dekret, fałsz, fundament, inkaust, kalam, mur, mularz, ofiara, persona, pielgrzym, poganin, processyja, przywilej, respekt, testament, termin.
Многочисленные латинизмы, попавшие в текст тефсира, датируются XVI в.: ceremonija, deklaracyja, deklerowanij, dekretować, doktor, fałszywy, figiel, figura, filar, fundacyja, fundator, fundować, fundusz, funt, konwersacyja, kryminał, medyjator, melon, monarcha, nacyja, muzycki, ofiara, ofiarować, ofiarownik, paragraf, perfekcyja, personić, plenimpotent, pretendować, prezbiter, prowizor, publikować, referendarstwo, sukkolektor, tytuł, trybut, upersonić, wiktoryja.
Более поздние латинизмы – это instygator, dyrygować, konwersować, zamurowanie.
3.4.2. Уместность использования латинизмов
В польской литературе постоянно поднимался и поднимается вопрос об уместности использования латинизмов. Еще З. Клеменсевич писал:
Глядя на общее влияние латыни на лексику среднепольской эпохи, мы не можем закрывать глаза на ее вредное воздействие. Она поддерживала слабость или нежелание прилагать усилия для создания слова для называния новых умственных и материальных продуктов эпохи в соответствии со свойствами и традиционными образцами родного языка (перевод мой – А.К.) [Klemensiewich 1976, 342].
В настоящее время отмечаются более осторожные оценки влияния латыни, вплоть до признания ее необходимости для формирования гражданской идентичности:
введение латинских частиц в обыденные высказывания в речи представителей дворянства всегда носит характер, который я бы охарактеризовал как создание технического языка идентичности. Я готов рискнуть и предположить, что на разных уровнях и с разной интенсивностью латынь шляхты, переплетенная с польским, придает высказываниям гражданина Речи Посполитой... характер декларации верности определенной системе ценностей (перевод мой – А.К.) [Axer 2004, 155].
Если говорить о латинских заимствованиях тефсира, то они зачастую не дублируют существующих в польском языке слов. Так, с момента возникновения института завещаний в XII в. в связи с деятельностью католической церкви, основанной на римском праве (см., напр., [Bobowski 2009]), в польском языке существовал лишь термин testament для обозначения документа, представляющего последнюю волю завещателя [SStp 9 1982–1987, 149]. У слова procesja, зафиксированного еще для текстов старопольского периода, нет синонимов и по данным словаря XVI в. [SP XIV w. 30, 2002, 305 и далее], хотя его значение весьма расширилось по сравнению с первоначальной фиксацией – от ‘торжественное шествие во время праздника в костеле’ [SStp 7 1973–1977, 54] до ‘торжественное шествие вообще’ [SP XIV w. 30, 2002, 305]; в этом последнем значении оно и употребляется в тексте тефсира. А слово ceremonija, появившееся в XVI в. (в нашем тексте оно встречается в том же контексте суры 2, что и рассмотренное выше procesja: kto bim mal naweʒic dom božiji ḱe‘be poslūge wekūjisto z ceremoniami ne benʒe grex jim jes̀libi ne bilī ū sefa i ū merwejū i ne ūčinili tam pr[o]cesijoŋ ū obdwix pagūrkax11 (K.22a)), имеет синонимы во всех своих значениях – obrząd, obchód и т.д. [SP XIV w. 3 1968, 158].
C обозначением культурно импортированных реалий связаны лексемы kalam и inkaust, заимствованные в латынь из греческого, а позже через чешский попавшие в польский [Sławski 2 1964, 34; Brückner 1985, 192]. Оба слова были использованы при переводе 27 аята 31 суры: cō jest na źemi z drewa kalemi bilibi a mōre inkawstem12 (K.327a), тем более, что в арабском тексте представлена лексема  , восходящая к тому же греческому корню13. К терминологии, пришедшей с христианством и не имеющей синонимов, относится слово poganin, фиксируемое уже в старопольский период [SStp 6 1970–1973, 290].
, восходящая к тому же греческому корню13. К терминологии, пришедшей с христианством и не имеющей синонимов, относится слово poganin, фиксируемое уже в старопольский период [SStp 6 1970–1973, 290].
Вместо слова ofiara в том значении, в котором оно употреблено в тексте в суре 2 (‘предмет, предназначенный для пожертвования божеству’: zarzneto na ofara obrazom a ne na ime bože14, K.23b), мог быть использован синоним obiata. Однако если в старопольских текстах его употребления [SStp 5 1965–1969, 327–329] несколько превышали употребления слова ofiara [SStp 5 1965–1969, 521–522], то уже к XVI w. частотность и семантический диапазон первого из слов уменьшается, продолжая сокращаться в текстах барокко. Это объясняет стратегию неизвестного переводчика или же копииста, который предпочел более употребительный и семантически богатый вариант.
Среди заимствований XVI в. также есть слова, обозначавшие новые реалии или понятия: funt – заимствованная мера веса, melon – название достаточно экзотического растения, prowizor – определенная профессия, paragraf – канцелярский или юридический термин и т.д.
Среди старопольских и среди среднепольских заимствований обнаруживаются лексемы, для которых существовали употребительные польские соответствия: ср. старопольск. bestyja – zwierze, fałsz – kłamstwo, fundament – podwalina, mur – ściana, persona – osoba; processyja – pochód, respekt – uwaga, powód; хотя, конечно, подобные лексемы превалируют среди заимствований XVI в.: ceremonia – obchod, obrząd, deklaracyja – oświadczenie, przyrzeczenie, fundacja, fundusz – nadanie, poświątne, figura – forma, osoba, obraz…, konwersacyja – obcowanie, kryminał – przestępstwo, medyjator – pośrednik, monarcha – cesarz, władca, król…, ofiara – obiata, nacyja – narod, lud, perfekcyja – doskonalstwo, doskonałość, plenimpotent – namiastek, pretendować – dawać, okazować, trybut – danina, wiktoryja – zwycięstwo и т.д.
Латинизм может иметь польское соответствие в одном из своих значений, но именно в этом значении он употребляется в тексте. Так, слово doktor обладает более богатой семантикой, чем lekarz (кроме основного значения ‘врач’ также ‘ученый человек’, ‘обладатель научного титула’ [SP XIV w. 5 1971, 274 и далее]), но именно в значении ‘врач’ оно используется в нашем тексте: bō pan bōg wšitk̀e reči wjedōmij i dōktōrem jest na jih dōlegliwości15 (K.408a). Следует сказать, что традиция именования Христа доктором существовала и в христианской литературе: Poſłał P. Bog Słowo y mądrość ſwoię widomego doktorá z niebá16 (P. Skarga, Kazania na niedzielę świętą (1595) [SP XIV w. 5 1971, 276].
Все латинизмы, и прежде всего те, которые выступают как новые синонимы существующих слов, свидетельствуют об образованности переводчика, знании современной литературы, так как многие из вышеприведенных лексем не являются распространенными и общеупотребительными. Так, слово plenimpotent ‘полномочный представитель’ (K.166a) встречается в текстах XVI в. 15 раз [SP XIV w. 24 1996, 335], в то время как синонимичное ему namiastek – 146 раз [SP XIV w. 16 1985, 10]. Латинизм paragraf, четырежды отмеченный в текстах XVI в., употреблен в тексте два раза в значении ‘часть’ (werice w reči inšim peragrefom ks̀engi i ne werice i zacerace inše peragrafi17 (K. 11b)) и мог быть заменен соответствующим словом, ср. совр. польск. Czyż możecie wierzyć w jedną część Księgi, a nie wierzyć w inną jej część?18 (сура 2, аят 85). Иногда такие слова вводят в текст обозначения реалий, не соответствующих представленному в священной книге времени, как, напр., sukkolektor ‘сборщик податей, таможенник’ – редкое слово, отмеченное в словаре XVI в. лишь в 4 контекстах.
Можно говорить и о не совсем оправданных употреблениях слов: в следующем фрагменте soɳ… sprawdliwše ōd tix które… īman prijenli respektem wjerī19 (K.73b) всю конструкцию, включающую слово respekt, можно выразить одним предикатом, ср. в совр. польском переводе: …сi są na lepszej drodze aniżeli ci, którzy uwierzyli) 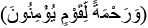 20 (сура 4, аят 51). Также одним словом можно представить объектную синтагму следующего фрагмента: či otrimalis̀ce od boga prewilij deklerowaij21
20 (сура 4, аят 51). Также одним словом можно представить объектную синтагму следующего фрагмента: či otrimalis̀ce od boga prewilij deklerowaij21 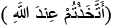 (сура 2 аят 80), ср. совр. польск. Czy wy zawarliście przymierze z Bogiem?22.
(сура 2 аят 80), ср. совр. польск. Czy wy zawarliście przymierze z Bogiem?22.
Латинизм bestyja представлен в суре 3 аят 65 там, где в оригинале стоит лексема  ‘обезьяна’, однако само слово (o)bezjana, заимствование из вост.-слав. языков, также встречается в тексте тефсира (сура 5 (K. 97b) (bestije beżjani) и 7 (K. 139a).
‘обезьяна’, однако само слово (o)bezjana, заимствование из вост.-слав. языков, также встречается в тексте тефсира (сура 5 (K. 97b) (bestije beżjani) и 7 (K. 139a).
Если принять за отправную точку создание рассматриваемого текста в версии не сохранившегося протографа в конце XVI в., можно констатировать, что некоторые латинские заимствования получают в нем первую фиксацию ранее, чем в латинографических памятниках польской письменности. К таким словам относится, напр., instygator (K.227a), наиболее раннее употребление которого [ESJP XVII i XVIII ww] относится к 1601–1648 гг. Кроме того, в данном случае отмечается модификация значения: в тексте суры 17 речь идет не о чиновнике, который следит за тем, чтобы государству не был нанесен урон, но о правопреемнике (родственнике или наследнике) убитого, имеющем право мести за умышленное несправедливое убийство. Вышеуказанный словарь относит к началу XVII в. и глагол dyrygować < niem. dirigieren, fr. diriger, z łac. dirigo ‘kieruję’, употребленный в тексте в значении латинского этимона.
К лексемам, в первый раз отмечаемым в тексте тефсира, можно отнести глагол konwersować (K.57a), который Słownik polszczyzny XVI-wiecznej фиксирует лишь как возможный, однако примеры употребления появляются только в словаре Линде [Linde 1 / 2, 1808, 1075].
3.5. Изменение семантики латинизмов в тексте тефсира
Появляясь в тексте тефсира, слова могут переживать различные модификации своего значения.
В случае со словом animusz происходит сужение семантики – если Słownik staropolski указывает для него нейтральное (и даже приближающееся к положительно коннотированному) значение ‘характер, отвага, милость по отношению к к.-л., воля, желание, намерение’ [SStp]23, то в 83 аяте 28 суры это слово, в соответствии с контекстом, приобретает отрицательную коннотацию, используясь для номинации нечестивой гордыни: dla tix, które ne žondajōn sobe wisōḱix animuśow i welḱej pixi na źemi24 (K.313a).
Модификация значения коснулась также слова prezbiter (a ḱedi śe gō dōtkne zlōśc jemu naleži ta jaka xōrōba pripadḱi i straci naʒeje od lasḱi našej pretō zōstane prōźbiterem jawnō śe benʒe mōdlil (K.381a), для которого Słownik polszczyzny XVI-wiecznej приводит значение ‘руководитель религиозного объединения’, в оригинальном же тексте суры 41, аят 51 такое значение отсутствует, ср. совр. польск. Kiedy obdarzamy człowieka dobrodziejstwami, on się odwraca i oddala; a kiedy dotyka go zło, on wtedy jest pełen długiej modlitwy и совр. рус. Когда Мы милостью Своей одариваем человека, Он отвращается в гордыне и уходит; Когда ж его коснется зло, Он погружается в обильные молитвы. Как представляется, в данном случае был осуществлен семантический перенос с обозначения высокой должности священнослужителя (причем немусульманского) на номинацию усиленно, но неправедно молящегося человека.
Еще один латинизм, не используемый в прямом значении, – referendarstwo. Это термин употреблялся в XVI в. для обозначения службы референдария, высокого государственного чиновника. Однако в тексте тефсира он выступает в иной функции – в 144 аяте 7 суры используется для определения права выступать транслятором божественного слова: rekl pan bōg ī mūs̀ej pewne ja wibralem cebe nad lūʒī prōrōčenstwem i rōzmōwnim referendarstwem (K.136a), ср. совр. польск. перевод: Powiedział: „O Mojżeszu! Ja wybrałem ciebie ponad wszystkich ludzi dla przekazania Moich posłań i Mojego słowa”25.
В польском языке XVI в. слово prowizor употреблялось в двух значениях: терминологическом – ‘чиновник высокого ранга, распоряжающийся военными расходами, избираемый на сейме, временно выполняющий свои функции’, и более широком, обозначая вообще человека, управляющего чем-л., снабженца, администратора [SP XIV w. 30 1985, 476]. В тексте же тефсира в начале 1 суры (najlepša xwala bogū panū i prowizerowi s̀wjatū26) его значение модифицируется. На основании семы ‘тот, кто поставляет необходимое, питает’ оно расширяется на представление Бога как могущественного опекуна всего мира.
В случае многозначных слов создатели тефсира верно выбирают лексико-семантический вариант, содержащий необходимый компонент значения. Так, слово cyrkiel, образованное от лат. circus, circulus [Brückner 1985, 70], впервые фиксируется в 1490 г. в единственном значении ‘круг’, причем из этой фиксации видно его непосредственное проникновение в польский язык из немецкого: оно отмечено в латинско-немецком словаре, в котором содержались также польские глоссы [Erzepki 1908, 10]. Однако уже в XVI в. оно «обрастает» другими значениями: ‘инструмент для очерчивания круга’, ‘круг, окружность, искривление’, ‘неизменное цикличное движение времени’, ‘астрономический и географический термин, астрономические окружности, по которым двигаются небесные тела’ [SP XIV w. 3 1968 159]. Именно в последнем значении было употреблено это слово в тексте тефсира: ūčinil slōnce s̀wjetlōścōŋ palajōncōŋ a mes̀ōnc ōs̀wecenem mnejšim... ōznajmūjōnc cirkle īx xoʒena cūdōwnegō...27 (K.166a), что свидетельствует о знакомстве его создателей с научной литературой.
3.6. Пути попадания латинизмов тефсира в польский язык
3.6.1. Заимствования, пришедшие через восточнославянские языки
Пути заимствований в польский язык, а затем в рассматриваемый текст тефсира могут быть различными. Так, нет сомнений в том, что слово anioł попало в наш текст из польского языка, где было зафиксировано в XVI в., пройдя путь из греческого через латинский и чешский, о чем свидетельствует его форма [Boryś 2005, 18]. Форма же awanelija в такой фонетической версии появилась пр и восточнославянском посредстве, поскольку как еванелия она представлена только в историческом словаре белорусского языка [ГСБМ 9 1989, 141].
Восточнославянский путь появления в тексте тефсира можно предположить и для деривата-определения из синтагмы žōna… kanślerōwa (K.190b), поскольку фонетический вариант канслер (ср. пол. kanclerz) фиксируют белорусский [ГСБМ 14 1996, 262] и русский [СлРЯ XI–XVII 7 1980, 60] исторический словари (ср. также укр. канслерїа [СлУМ XVII пол. XVII 14 2008, 38]).
В тексте встречаются два деривата от слова majster (как и канцлер, kanclerz, пришедшего из латыни посредством немецкого языка), точнее, от его производного majstrować (K.180a)28 – majsterstwo (K.288a) и majstrowstwo. Несмотря на общую мотивировку и сходные форманты, пути их появления различны – первый фиксируется историческим словарем украинского языка [СлУМ XVI–I пол. XVII 17 2017, 16], а в белорусском словаре единственное упоминание этого слова представлено цитатой из объяснительной части словаря П. Берынды, представляющей родной ему языковой материал [ГСБМ 17 1998, 228]; второй же дериват встречается лишь в белорусском историческом словаре, причем в тексте из Историко-юридических материалов, извлеченных из архивных книг губерний Витебской и Могилевской [ГСБМ 17 1998, 229]29.
Редукция в предударном слоге также позволяет предположить восточнославянское происхождение фонетической формы manarxa, хотя ни один из исторических словарей восточнославянских языков не предлагает такого написания этого слова (см. [ГСБМ 18 1999, 146; СлУМ XVI–I пол. XVII 17 2017, 42; СлРЯ XI–XVII 9 1982, 257–258]), что позволяет предположить устный путь его проникновения.
3.6.2. Заимствования, пришедшие через немецкий язык
Восточнославянский путь проникновения слова в текст тефсира интересен прежде всего потому, что чаще всего латинские элементы попадали в польский язык посредством немецкого языка, напр., существительное fałsz < лат. falsus, на немецкое происхождение которого указывает шипящий в корне (ср. нем. Falsch) [Brückner 1985, 117]. В тексте встречается его прилагательное-дериват – fałszywy, характерное для XVI в., поскольку ранее фиксировалось производное fałeszny < чеш. falešný. Видимо, через ср.-в.-нем. в польский попадает существительное figiel; цепочка заимствований идет от лат. vigiliae ‘ночное бдение, шумный ночной обход домов и церквей’ [WSJP PAN]. Также ср.-в.-нем. путь заимствования предполагается для слова filar < pfīlaere < ср.-лат. pīlāre < лат. pīla, все со значением ‘опора’ [Sławski 1 1952–1956, 229]. Тем же путем пришли латинизмы funt < ср.-в.-нем. phunt < лат. pondō; furta < ср.-в.-нем. phorte < лат. porta [ibid. 241, 242].
Заимствованием, попавшим в польский посредством немецкого языка (XV в.), является также mur < лат. mūrus [Boryś 2005, 342]. В тексте тефсира встречается как оно само, так и его дериваты mularz и zamurowanie. Отглагольное существительное zamurowanie получает в рассматриваемом тексте более раннюю фиксацию по сравнению с представлением в словарях, поскольку первый раз его отмечает только лишь Słownik Wileński [SWil].
4. Заключение
Наличие латинизмов в первом славянском переводе Корана является убедительным признаком принадлежности его создателей к польской шляхетской культуре. Как представляется, в данном случае не следует определять правомерность и оправданность употребления заимствований из латинского языка, а рассматривать их лишь как знак социальной идентичности, а также знамение времени создания рассматриваемого текста.
Количество латинизмов на единицу текста совпадает с тем, которое определяется для произведений XVI в., что может быть очередным косвенным подтверждением времени создания несохранившегося протографа данного тефсира. Наличие латинизмов, формальные признаки которых указывают на их проникновение в текст через восточнославянские языки, позволяет предположить создание протографа на территории, где такой процесс был возможен, то есть непосредственно примыкающей к восточнославянским землям.
Словари
BORYŚ, W., 2005. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
BRÜCKNER, A., 1985. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
ESJP XVII i XVIII ww. = Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku. Zasób elektroniczny. Dostęp: sxvii.pl.
KARŁOWICZ, J., 1900. Słownik gwar polskich. T. 1. Kraków: Akademia Umiejętności.
LINDE, S. B., 1808. Słownik języka polskiego. T. 1 cz. 2. Warszawa: Drukarnia XX. Piiarów.
SŁAWSKI, F., 1952–1982. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1–5. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
SŁŚ = PLEZIA, M. (red.), 1971. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 3, z. 4 (22). Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
SP XIV w.= MAYENOWA, M. R. i in., 1966–. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1–. Wrocław, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.
SStp.= URBAŃCZYK, S. (red.), 1953–2002. Słownik staropolski, t. 1–11. Kraków: IJP PAN. Zasób elektroniczny: http://www.staropolska.pl/slownik/?nr=0&litera=animusz&id=28.
SWil. = Słownik Wileński. Zasób elektroniczny. Edycja elektroniczna Słownika wileńskiego (pan.pl). Dostęp: https://eswil.ijp.pan.pl/
WSJP PAN = Wielki słownik języka polskiego PAN. Zasób elektroniczny. Dostęp: wsjp.pl.
СлРЯ XI–XVII = БАРХУДАРОВ, С. Г. и др. (ред.), 1975–. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. Москва: Наука. (BARHUDAROV, S. G. i dr. (red.), 1975–. Slovar’ russkogo yazyka XI–XVII vv. Vyp. 1–. Moskva: Nauka).
СлУМ XVI–I пол. XVII – ГРИНЧИШИН, Д. i iн. (ред.), 1994–. Словник української мови XVI — першої половини XVII ст. Вип. 1–. Львів: Інститут українознавства НАН України. (GRINCHISHIN, D. i in. (red.), 1994–. Slovnik ukraїns’koї movi XVI — pershoї polovini XVII st. Vip. 1–. L’vіv: Іnstitut ukraїnoznavstva NAN Ukraїni).
ГСБМ – БУЛЫКА, А. М. (рэд.), 1982–2017. Гiстарычны слоўнiк беларускай мовы. 37 вып. Мінск: Бел. навука. (BULYKA, A. M. (red.), 1982–2017. Gistarychny sloўnik belaruskaj movy. 37 vyp. Mіnsk: Bel. navuka).
Литература
ЗЕМСКАЯ, Е. А., 2003. О языке русского зарубежья. (ZEMSKAYA, E. A., 2003. O yazyke russkogo zarubezh’ya). In MUHA, A. (red.). Simpozij Obdobja 20: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knji`nica, 95–106.
КРЫСИН, Л. П., 1968. Иноязычные слова в современном русском языке. Москва: Наука. (KRYSIN, L. P., 1968. Inoyazychnye slova v sovremennom russkom yazyke. Moskva: Nauka).
AXER, E., 2004. Łacina jako drugi język narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej. In AXER, E. (red.). Łacina jako język elit. Warszawa: Wyd. „DiG”, 153–156.
BEHRENDT-BARTKOWSKA, S., 2014. Morfologiczna adaptacja zapożyczeń greckich i łacińskich przez język polski i rosyjski, Kwartalnik Językoznawczy, 2. 1–13. http://dx.doi.org/10.14746/kj.2014.2.1
BOBOWSKI, B., 2009. Testament w średniowiecznym prawie polskim. In Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ser. Zeszyty Historyczne, 10, 83–88.
DROZD, A., 2017. O twórczości literackiej Tatarów w dobie staropolskiej, Przegląd Orientalistyczny, 1/2. 19–44.
DROZD, A., z.e. = Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich w procesie przejmowania elementów kultury muzułmańskiej do kultury polskiej. Zasób elektroniczny.
DUBISZ, S., 2002. Rola łaciny w dziejach polskiej wspólnoty komunikatywnej. In DUBISZ, S. (red.). Język – historia – kultura. T. 1. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 213–237.
ERZEPKI, B., 1908. Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego, I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika… druk. w roku 1490. In Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 34, 1–139.
GERMAN, J., 2022. Czy (i jak) warto jeszcze badać staropolskie latynizmy i grecyzmy? LingVaria, 17. 307–317. https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.18
KLEMENSIEWICZ, Z., 1976. Historia języka polskiego. Warszawa: PWN.
KULWICKA-KAMIŃSKA, J., 2024. Leksyka północnokresowa w tefsirze Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: zapożyczenia niesłowiańskie. Toruń: Wydawnictwo UMK.
KULWICKA-KAMIŃSKA, J., 2020. Leksyka tatarskich tekstów przekładowych, Białostockie Archiwum Językowe, (20). 97–118.
KULWICKA-KAMIŃSKA, J., ŁAPICZ, CZ. (red.), 2022. Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: XVI-wieczny przekład Koranu na język polski. T. 1–3. Toruń: Wydawnictwo UMK.
KULWICKA-KAMIŃSKA, J., ŁAPICZ, CZ., 2022. Projekt „Tefsir” – krytyczne wydanie pierwszego przekładu Koranu na język słowiański (polski). Komentarz. In KULWICKA-KAMIŃSKA, J., ŁAPICZ, CZ. (red.). Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: XVI-wieczny przekład Koranu na język polski. Toruń: Wydawnictwo UMK, 39–80.
ŁAPICZ, CZ., 1986. Kitab Tatarów litewsko-polskich. (Paleografia. Grafia. Język). Toruń: Wydawnictwo UMK.
NOWOWIEJSKI, B., 2010. O stosunku do zapożyczeń z języków obcych w świetle historii języka polskiego. In NOWOWIEJSKI, B. (red.). Z zagadnień kontaktów językowych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 9–44.
PIOTROWSKI, T., 2008. Zapożyczenia leksykalne w języku polskim jako ślady relacji kulturowych. In GAJDA, S. (red.). Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej. Opole: Wydawnictwo UO, 375–399.
WALCZAK, B., 1995. Zarys dziejów języka polskiego. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
1 Во внимание не принимались записи на маргиналиях, отличающиеся от основного текста временем создания.
2 О том, что многие из подобных форм можно считать проникающими в польский язык словами латинского происхождения см., напр., [Behrendt-Bartkowska 2014, 9].
3 В издании в сноске начальная форма ошибочно представлена как dyrektorowany.
4 ‘будут понимать кафиры (неверные), что они на хорошую дорогу направлены (*директованы)’ (перевод мой – А.К.).
5 ср. https://spxvi.edu.pl/indeks/szukaj/?tryb=0&q=best&typ=&porzadek=0
6 ‘Ибо тот, который заложил свою основу на страхе божьем, боящийся Бога и для благодарности Ему, ибо этот должен быть лучше того, что заложил основу на краю адской пропасти, упали эти основатели с этим меджидом в адский огонь, ибо Господь Бог не направляет на хорошее этих неверных… не принято их основание, которое основано на сомнении в сердце их…’.
7 Коран, 9: 107–108: Те, которые построили мечеть для нанесения вреда, поддержания неверия, внесения раскола в ряды мусульман… Никогда не совершай в ней намаз. Мечеть, которая с первого дня была основана на богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты выстаивал в ней. Здесь и далее, если не указано иначе, используется перевод Корана Эльмира Кулиева (Священный Коран (quran-online.ru)).
8 Совр. рус.: Он – Тот, Кто назначает форму вам еще в утробах матерей.
9 Совр. рус.: Мы сотворили вас и вам придали форму. Потом мы ангелам сказали: „ Адаму (низко) поклонитесь!”
10 Совр. польск. I grzesznicy zobaczą ogień. Pomyślą wtedy, że tam się dostaną, i nie znajdą od niego wybawienia (здесь и далее используется перевод Корана на польский язык Centrum Kultury Islamu-Katowice (islam-katowice.pl) и совр. рус. А грешники увидят огнь Ада, Предчувствуя, что попадут в него, – Но не найти им от него спасенья!
11 Совр. рус. (аят 158): Коль те, кто совершает к Дому Хадж Иль совершает праздничный молебен – (гумря), Вокруг холмов сих сделают обход.
12 Совр. рус.: И если б в перья обратились деревья все, что на земле, (Для записи Словес Господних) И если б океан (земной в чернила обратился).
13 В связи с этим здесь можно предполагать также иной путь заимствования в польский язык литовских татар – непосредственно из арабского языка.
14 ‘зарезано в жертву идолам, а не во имя Божие’ (Здесь и далее, если не указано иначе, перевод примеров из тефсира мой – А.К.).
15 ‘ибо Господь Бог все вещи знает и является врачом всех недугов’.
16 ‘Послал Г(осподь) Бог слово и мудрость свою, видимого доктора с неба’.
17 ‘и верите иным параграфам книги и не верите и затираете иные параграфы’.
18 Совр. рус.: Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть?
19 ‘они… справедливее тех, которые… иман приняли по причине веры’.
20 Совр. рус.: …путь их более прямой, чем путь уверовавших.
21 ‘получили ли вы от Бога декларированные привилегии’.
22 Совр. рус.: Вы взяли с Господа обет?
23 Ср. подобное определение в [SP XIV 1 1966, 165].
24 Ср. совр. польск. (którzy nie pragną wyniosłości na ziemi ani szerzyć zgorszenia) или русск. (кто не желает величаться на земле или нечестие там сеять) версии.
25 Совр. рус.: Он сказал: «О Муса (Моисей)! Я возвысил тебя над людьми благодаря Моему посланию и Моей беседе.
26 ‘наилучшая похвала Господу Богу и провизору мира’.
27 ‘сделал солнце пылающим светлом, а луну меньшим освещением… объявив окружности их чудесного хождения’.
28 Słownik języka polskiego XVII-XVIII ww. фиксирует его первое употребление в 1618–1679 гг. [ESJP XVII i XVIII w.].
29 Для польского языка в [ESJP XVII i XVIII w.] приводится только фонетическая версия majstrostwo, датируемая 1743 г.